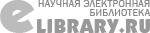Проблемы сохранения и интерпретации советского мемориального наследия в Литве
Статья подготовлена по итогам доклада автора на тему “Советское/российское мемориальное наследие в странах Балтии: пределы переосмысления и диалога” на мероприятии международной диалоговой площадки взаимодействия научно-экспертного сообщества “Балтийская платформа” в декабре 2024 г. в Санкт-Петербурге. Автор изучила процесс борьбы с советским мемориальным наследием в Литве на примере дискуссии вокруг скульптурных композиций в общественном пространстве столичного Вильнюса. Первая волна “войн с памятниками” в 1990-х годах практически не коснулась той части мемориального наследия, которая не ассоциировалось напрямую с советской или коммунистической идеологией. Возникшая в 2010-х годах дискуссия вокруг сохранения или демонтажа памятников искусства и архитектуры времен СССР продемонстрировала, как диссонантное советское наследие подвергается инструментализации и секьюритизации. В результате, памятники становятся символами не только того периода истории, но и вписываются в современный военно-политический контекст. Деконструкция нарратива, транслируемого диссонантным наследием, почти всегда начинает означать уничтожение не только самого памятника, но и прежней коллективной памяти, в том числе с целью конструирования новой идентичности. При этом на фоне политики исторического ревизионизма и нацеленности местных и национальных властей на уничтожение памятников советской эпохи различные инициативные группы граждан на протяжении нескольких лет предлагали иные стратегии сохранения советского наследия, в том числе – их художественного переосмысления. Исследование этих проектов и общественной реакции на них показало, что подобной реинтерпретации оказалось недостаточно для ограничения или снятия диссонантного потенциала памятников эпохи. В то же время их демонтаж не остановил попыток переосмысления их символического пространства и не привел к уничтожению исторической памяти о них.
Ключевые слова
Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов финансового и нефинансового характера.
Финансирование: автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования.
 Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
ВВЕДЕНИЕ
Данная статья является продолжением доклада “Советское/российское мемориальное наследие в странах Балтии: пределы переосмысления и диалога”, представленном в декабре 2024 г. на очередной сессии международной диалоговой площадки “Балтийская платформа”, посвященной вопросам гуманитарного сотрудничества и восстановления социальных и культурных связей в условиях конфронтации. Процессы борьбы с советским мемориальным наследием в странах Балтии, продолжающиеся с начала 1990-х годов, пока не получили комплексного описания как в национальной, так и зарубежной литературе. Тем не менее в последние годы в связи с новой волной сноса памятников в этих странах научное сообщество все больше обращает внимание на необходимость углубленного изучения этого процесса, особенно в ситуации его распространения на все новые категории наследия. Участники очередной конференции “Балтийской платформы”, прошедшей в ноябре 2023 г. в Санкт-Петербурге под названием “Большая Балтия: историко-культурное наследие, этнокультурная и образовательная специфика”, в итоговой резолюции обратили внимание на масштаб “войн памяти”, которые инициируются органами государственной власти стран Прибалтики, носят откровенно антироссийский характер и не имеют никакого отношения к поискам исторической истины.
При изучении проблем уничтожения и переформатирования советских памятников в Литве, Латвии и Эстонии исследователи все чаще используют термин “трудного” или “сложного наследия”. Существует ряд других рабочих определений для типизации подобного наследия – оспариваемое наследие (contested heritage), некомфортное наследие (uncomfortable heritage), токсичное (toxic heritage), нежелательное наследие (undesirable heritage) и др. 1. Британские исследователи Дж.Е. Танбридж и Гр.Дж. Эшворт, занимавшиеся разработкой проблем обращения с подобным наследием, в работе “Диссонантное наследие: Управление прошлым как ресурс в конфликте” впервые ввели и обосновали новое определение для такого наследия – “диссонантное” 2. “Диссонантное” (или противоречивое) наследие – это наследие, вокруг интерпретации и представления которого в обществе возникает несогласие, диссонанс или конфликт, когда субъекты приписывают объекту наследия различные нарративы и ценности.
Танбридж и Эшворт при этом полагают, что подобный диссонанс является универсальной чертой наследия в целом, и любой его объект способен нести в себе диссонансный потенциал, который может проявиться при использовании памятника в качестве политического, экономического или культурного ресурса 2. Представляется, что этот термин вполне применим к советскому наследию в странах Балтии. Общество в них неизбежно разделяется в оценках, интерпретации и репрезентации подобного наследия, так как оно может быть или оказаться “нежелательным” или “трудным” для одной социальной группы и не являться таковым для другой/других групп в связи с различиями в исторических памяти, травмах и чувствительности. Таким образом, диссонантное наследие бросает своеобразный вызов доминирующему историческому нарративу и принятым в обществе взглядам на прошлое. При этом, как подчеркивают Танбридж и Эшворт, в мнемоническом конфликте – конфликте между различными моделями коллективной памяти – значение имеет не только то, что интерпретируется, но также и тот, кто интерпретирует эти объекты, как и с какой целью 2.
ДИССОНАНТНОЕ НАСЛЕДИЕ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ДЕКОММУНИЗАЦИИ
В странах Балтии превращение памятников советского периода в “диссонантное наследие” произошло сразу после обретения независимости, когда коллективная память о советском периоде истории вступила в противоречие с новыми историческими нарративами. Как российские, так и зарубежные исследователи согласны с тем, что процессы декоммунизации и десоветизации общественного пространства в странах Балтии следует подразделять на несколько этапов.
Первый пришелся на 1990-е годы – период формирования новых официальных национальных исторических нарративов 3. По определению американского советолога К. Вердери, после обретения независимости в бывших прибалтийских республиках СССР “началась настоящая оргия исторического ревизионизма” 4, а свидетельства советского периода истории уничтожались не только в публичном пространстве, но и в коллективной памяти. Тем не менее в тот период процесс декоммунизации еще не охватывал всего комплекса мемориального наследия советского периода. В первую “волну” были уничтожены наиболее “идеологические” памятники, целенаправленно транслировавшие коммунистическую идеологию или напоминавшие о ней – памятники В.И. Ленину, И.В. Сталину, К. Марксу и Ф. Энгельсу, лидерам литовской компартии и международного коммунистического движения, партийным и государственным деятелям Литовской СССР. В то же время первая волна ревизионизма не затронула другие объекты советского наследия, которые исследователи называют “идеологически неоднозначными” 5. К ним относятся советские памятники, находившиеся в местах воинских захоронений, монументы деятелям культуры и искусства советской Литвы, памятники архитектуры и т.п. До середины 2000-х годов они в целом не воспринимались властями и обществом в качестве диссонантного наследия, не считались носителями коммунистической идеологии и не были включены в дискурс войны с советскими памятниками ни физически, ни теоретически. Их значение практически не оспаривалось и не изменялось путем переноса в другое место или добавления дополнительного исторического контекста, позволявшего “перекодировать” памятник из советского в национальный 3.
Стратегия властей в отношении подобных объектов советского мемориального наследия изменилась только после завершения евроинтеграционных процессов. Вступление в Европейский союз Литвы, Латвии и Эстонии, как и других стран Центральной и Восточной Европы, подорвало существовавший до середины 2000-х годов в ЕС исторический консенсус. Формировавшийся в Западной Европе на протяжении 1960–1970-х годов и окончательно ставший официальным в 1990-е годы нарратив о том, что Холокост являлся уникальным “преступлением преступлений”, не предполагал признания каких-либо иных, сопоставимых “жертв” в европейской истории, по крайней мере, в XX в. Странам Балтии и Польше, тем не менее, удалось сделать свой опыт нахождения в составе СССР или в сфере советского влияния частью европейского мета-нарратива, в котором господствовавшее представление о Холокосте стало уступать место “истории двух тоталитаризмов” 6.
Параллельно с продвижением тезиса об уравнивании преступлений нацизма и коммунизма в странах Балтии разворачивалась новая “война с памятниками”. Многие российские и литовские исследователи увязывают новую волну “десоветизации” общественного пространства с развитием украинского кризиса 2014 г. 3 7. Но актуализация в начале XXI в. вопроса об оставшемся “неоднозначном” советском мемориальном наследии была связана не только с внешними факторами и с ухудшением отношений прибалтийских стран с Россией. Более обоснованным представляется мнение, что отправной точкой для начала второй волны “войны с памятниками” в странах Балтии стали события “Бронзовой ночи” в Эстонии в 2007 г., после которой во всех трех прибалтийских республиках действительно отмечается всплеск внимания к сохранившимся объектам советского наследия. Хотя процесс принятия официальных решений о демонтаже или сносе этих памятников растянулся на несколько лет, как правило, начало общественной дискуссии вокруг “диссонантного наследия” относится к периоду до начала украинского кризиса и деградации отношений России со странами Балтии. В начавшейся “войне с памятниками” через уничтожение мемориальных воплощений памяти, ее образов, символов, происходила и деконструкция коллективной памяти как таковой 8 9. При этом главной целью деконструкции являлась не только “война” с памятью и прежними историческими нарративами, но и изменение идентичности – как индивидуальной, так и национальной 8.
СОВЕТСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ: МЕЖДУ ИДЕОЛОГИЕЙ И ИСКУССТВОМ
В Литве именно в это время в центре внимания оказались скульптуры на Зеленом мосту в Вильнюсе. Четыре скульптурных композиции авторства литовских скульпторов – “На страже мира” (два солдата со знаменем), “Сельское хозяйство” (девушка со снопом колосьев и механизатор), “Строительство и промышленность” (шахтер и строитель), “Учащаяся молодежь” (студент и студентка с книгами) – были установлены на гранитных постаментах на мосту в 1952 г. К 2009–2010 гг. скульптуры значительно обветшали, покрылись ржавчиной и требовали срочной реконструкции, однако правительство и городские власти несколько лет не выделяли финансирования на ремонтные работы, ссылаясь на нехватку бюджетных средств. Одновременно администрация города отказалась принять предложение о финансировании и помощи в реставрационных работах со стороны Российской Федерации. Как заявлял занимавший в 2009–2010 гг. пост мэра Вильнюса В. Навицкас (от консервативной партии “Союз отечества – Христианские демократы”), “советские мумии на Зеленом мосту мы отремонтируем сами”.
Затягивание властями Литвы решения вопроса о реставрации скульптурных композиций Зеленого моста спровоцировало начало широкой общественно-политической дискуссии, в которой приняли участие не только политики и историки, но и известные журналисты, писатели, архитекторы, юристы, социологи, студенческие организации и объединения представителей разных родов искусства. Именно эту дискуссию многие исследователи считают, с одной стороны, началом нового этапа войны с сохранившимися советскими памятниками в Литве, а с другой – первым открытым обсуждением проблем взаимодействия властей и общества с объектами “диссонантного наследия” 5. Аргументы сторонников и противников сохранения скульптур Зеленого моста широко обсуждались в публичном и интернет-пространстве, а интерпретация советского прошлого Литвы становилась все более чувствительной темой.
В рамках дискуссии возникло несколько ключевых для контекста диссонантного наследия вопросов, первый из которых – являются ли подобные скульптуры, представляющие различные образы советского человека, источниками коммунистической пропаганды? Защитники скульптурных композиций утверждали, что они представляют “обычных людей”, а не политических деятелей, поэтому с идеологической точки зрения являются нейтральными. Представители искусства и науки подчеркивали, что скульптуры отражают не идеологию, а образы и эстетические представления советского периода, а также обычных людей – крестьян, солдат, рабочих и студентов – и не должны оцениваться с точки зрения идеологии. Арт-критики, скульпторы, искусствоведы были согласны с тем, что необходимо провести границу между памятниками конкретным людям – Ленину, Сталину, лидерам литовской компартии – и “абстрактными образами”.
Сторонники сноса скульптур отмечали, что именно эти “обычные люди” являются главными образами советской идеологии и “символами тоталитаризма”, которые все равно провоцируют воспоминания о “советской травме” и не должны находиться в публичном пространстве. Они подчеркивали, что фигуры советских солдат и рабочих на Зеленом мосту продолжают также служить триггерами травмы для тех, кто пострадал в период существования Литовской ССР. Политики из консервативной партии “Союза Отчества – Христианских демократов Литвы” настаивали, что правительство не должно использовать деньги налогоплательщиков для реставрации скульптур – “символов советской идеологии”, и что это является проявлением неуважения к жертвам советских репрессий 10. Представители еще более правых и националистических кругов заявляли, что “эти монстры… оскорбляют наши национальные чувства” 10.
Соотношение политического нарратива и культурно-исторической ценности памятника также стало предметом обсуждения. Представители политической элиты в основном отрицали саму возможность культурной ценности советских памятников, утверждая, что эти скульптуры были созданы прежде всего с политическими и идеологическими целями, а не с художественными или эстетическими 10. Сторонники демонтажа скульптур подчеркивали, что они представляли вовсе не “абстрактных” людей, как утверждали защитники наследия, а конкретные идеологические образы – “рабочего, выполнявшего пятилетний план” и “вооруженных солдат оккупационных сил” 5.
Сторонники подобного политического подхода к памятникам были склонны игнорировать и историю “маленького человека” – обычных жителей Вильнюса, которые видели в скульптурах не “символы тоталитаризма”, а своих близких и предков. В начале 2015 г. стало известно, что для скульптуры сельской девушки со снопом колосьев в композиции “Сельское хозяйство” позировала мать известного вильнюсского фотографа А. Сургайлиса, художница-график А. Вайвадиене-Сургалиене. Прообразом для скульптуры рабочего послужил в студенческие годы житель Каунаса, а фигура студентки, созданная известным скульптором Ю. Микенасом, изображала его юношескую любовь, литовскую художницу по керамике Э. Тулевичюте-Венцкевичене.
Оказалось, что скульптуры на Зеленом мосту можно рассматривать в зависимости от идеологических установок “зрителя” и его опыта жизни в Советской Литве: и как символ советской власти и сталинских репрессий, и как символ “коллаборационизма с врагом”, и как материально-историческое свидетельство уже канувшей в прошлое эпохи, и как пример соцреализма и определенного этапа в развитии литовской скульптуры. В ходе этой дискуссии впервые в пространстве исторической памяти четко обозначились два противостоящих нарратива.
Политизированный и идеологический подход предполагал секьюритизацию культурной памяти, акцентирование травматического опыта части населения, для защиты чувств которого декларировался отказ от свободной дискуссии с учетом мнений других групп общества. Подобный вид переживания “культурной травмы” в результате столкновения со скульптурными композициями в ежедневной жизни следует, скорее, отнести к таким, которые П. Штомпка определяет как травмы, не основанные на травматических ситуациях, а вызванные распространением представлений об этих событиях 11.
Сторонники сохранения памятника использовали, напротив, такие концепты как культурный плюрализм, открытость, гетерогенность памяти, а действия “борцов с памятниками” назывались “инквизицией” 5. Звучали предостережения, что “уничтожение скульптур Зеленого моста означает повторение советского опыта – мы обнаружим себя в месте, где нет прошлого” 10. Указывалось, что провоцирование идеологического антагонизма в обществе – одна из ключевых характеристик тоталитарного строя, а некоторые исследователи прямо называли политику властей в отношении советского наследия современным “обратным тоталитаризмом”: “попытки защитить идеологическую чистоту… переносят нас обратно к так ненавидимой догме тоталитаризма. Не является ли желание упростить реальность, стереть неудобные аспекты из памяти, истории и общества modus vivendi всех тоталитарных идеологий?” 10. Интуитивно данное деятелями искусства определение “обратного тоталитаризма” довольно точно иллюстрирует методы выстраивания властями политики конструирования национальной идентичности на основе тотального отрицания советского опыта, даже в его далеких от идеологии формах. Как показали российские исследователи, даже в разделенных обществах культурные различия – в том числе и различия в культурной памяти – сами по себе не являются “драйверами конфликта”, а становятся таковыми лишь в результате их намеренной политизации 12. Война с памятниками, как отмечают российские исследователи, при этом не ограничивается только целью реинтерпретации истории и переоценки прошлого. Споры о прошлом имеют прямое отношение к “проектированию будущего”, а создание новых метанарративов памяти должно потенциально вести к формированию инклюзивной национально-государственной идентичности 13 14. Целенаправленное же проведение литовскими властями политики разделения общества, применение “тоталитарных”, то есть насильственных, методов в конструировании новой идентичности ведет лишь к дальнейшей поляризации общества и появлению новых разделительных линий 8. И в данном случае противостояние сторонников сноса и сохранения скульптур прошло не по этнической границе между литовским большинством и русскоязычным меньшинством, а сконцентрировалось вокруг политики властей по выстраиванию идентичности на основе жесткого противостояния, а не инклюзивного подхода 8. Как отмечала руководитель Национальной художественной галереи Л. Яблонскене, “вопрос скульптур на Зеленом мосту должен решаться путем приведения в порядок и реставрации произведения, а не путем использования тех же понятий, которые были в советские годы: перенести, разрушить, демонтировать”.
Еще один спорный вопрос – как представляется, один из ключевых для темы “диссонантного наследия”– заключался в том, возможно ли изменить “идеологический нарратив” этих скульптур и включить их в городское пространство, придав им другой смысл. Единственной попыткой властей примирить два лагеря стало размещение специальной информационной таблички. В 2013 г. на скульптуре “На страже мира”, изображающей двух солдат – победителей фашизма, установили мемориальную доску, посвященную жертвам “советской оккупации”.
Но наиболее радикальные критики скульптур, хоть и поддержали установку таблицы, продолжали считать это недостаточным, предлагая расширить “тоталитарный дискурс” скульптурных композиций. По словам одного из представителей партии “Союз Отечества – Христианских демократов Литвы”, “если мы хотим обязательно сохранить этих болванов (распространенное в литовской политической среде название скульптор – Авт.) на мосту, тогда необходимо довести эту историю до конца… Вот есть такие счастливые студенты – там можно было бы написать, что эти счастливые советские студенты не могли свободно читать литературу”. Сложно не согласиться с мнением литовских теоретиков культуры, что такую позицию легко довести до абсурда, поскольку “почти каждый публично видимый пережиток советской эпохи, вероятно, пришлось бы прикрывать бесконечными историческими трактатами о сложной реальности того времени” 15.
ПОПЫТКИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Дискуссия, продолжавшаяся более пяти лет, не привела к компромиссу. В 2014 г., на фоне резкого ухудшения отношений с Россией, в Литве начинается серия протестов против сохранения скульптур Зеленого моста. В начале октября 2014 г. у моста прошел пикет с требованием исключить скульптуры из регистра культурных ценностей, а в середине того же месяца в Сейме состоялась конференция под названием “Есть ли у нас самоуважение? О скульптурах Зеленого моста и другом оккупационном наследии”, на которой депутат Сейма от популистской фракции “Путь мужества” А. Патацкас прямо назвал тех, кто стремится сохранить наследие советской эпохи в центре города, коллаборационистами 15
На протяжении 2014 г. существенные изменения претерпел и нарратив представителей власти об этих скульптурах – из символа “советского тоталитаризма” они превратились также и в символ современной российской политики. Так, представитель Министерства культуры Литвы Д. Варнайте в интервью литовским СМИ назвала скульптуры Зеленого моста “зелеными человечками”, таким образом подтвердив тенденцию к дальнейшей секьюритизации советских памятников, которые начинают восприниматься не только как травмирующее напоминание об ушедшей эпохе. Теперь они “олицетворяют Россию”, современная историческая память и ценности которой, как отметил директор исследовательских программ Института демократии и сотрудничества Дж. Локленд на конференции “Балтийской платформы” в декабре 2024 г., стала символом всего, что противостоит современной либеральной европейской идеологии. Таким образом, военно-политический контекст дополняется историческим и символическим базисом 16. Нарастающая конфронтация с Россией начинает восприниматься как конституирующий элемент новой национальной идентичности, а советские скульптуры – как олицетворение противника.
По мере обострения риторики, городские власти все чаще заявляют о намерении снести скульптуры, как только Министерство культуры страны исключит их из списка охраняемых государством объектов. Несмотря на то, что первоначальный ответ Министерства в 2010 г. был негативным, с указанием, что ведомство не может добавлять или убирать памятники из списка наследия в соответствии с “политической прихотью”, спустя несколько лет этот процесс был запущен. Осенью 2014 г. в Закон о культурном наследии были внесены поправки, исключавшие из списка культурного наследия памятники с советской символикой. Центр культурного наследия, ранее заявлявший о необходимости реставрации скульптур для сохранения архитектурной композиции и художественной целостности моста, свои замечания снял. Таким образом, юридические препятствия для снятия скульптур с моста были устранены, и 19–20 июля 2015 г. власти города провели их демонтаж. Скульптуры предполагалось перенести в частный парк-музей советского периода “Грутас”. Выставленные в этом “диснейленде коммунизма” 17 советские монументы десакрализуются, высмеиваются, однако при этом превращаются и в объекты ностальгии 3.
Несмотря на исчезновение объекта споров, дискуссия вокруг наследия Зеленого моста не прекратилась, а продолжилась в контексте его переосмысления. Почти сразу же возник вопрос о том, чем заполнить символическое пространство – пустующие постаменты на мосту, на которых находились композиции. Здесь стоит отметить, что попытки художественного “переосмысления” наследия Зеленого моста предпринимались и до 2015 г. 10. По мере развития конфликта было предпринято несколько попыток изменить связанный с ним нарратив с помощью информационных и художественных средств. Еще в середине 1990-х – начале 2000-х годов состоялся ряд художественных “провокаций”, как их назвали в литовских СМИ, в отношении скульптурных композиций. В 1995 г. скульптурам были надеты на голову “стеклянные кубы”, которые должны были символизировать превращение советского человека в некоего “общечеловека” с универсальными ценностями, в 2004 г. накануне католического Рождества на головы скульптур были надеты красные зимние шапки.
В 2009 г., когда Вильнюс был объявлен европейской культурной столицей, на мосту появилась более масштабная инсталляция “Цепь”. Два скрепленных между собой металлических кольца, подвешенные к пролету моста, должны были, по замыслу авторов, поставить советские скульптурные композиции в “правильный” исторический контекст, напомнив о социальных паттернах советского времени и частично даже отсылая к наследию советского рока – песне рок-группы “Наутилус Помпилиус” “Скованные одной цепью”, впервые исполненной в 1987 г. Можно согласиться с мнением некоторых литовских исследователей культурного наследия, что данный пример переосмысления символического пространства Зеленого моста был, в условиях нараставшего идеологического антагонизма и конфронтации с Россией, наиболее компромиссным и приемлемым для обеих сторон этого мнемонического конфликта, позволявшим и сохранить скульптуры, и задать им обновленный исторический контекст.
После демонтажа скульптур также было создано несколько проектов. В 2019 г. на мосту была установлена композиция “Активатор доброты мегареальности” фотографа С. Паукштиса и скульптора Ш. Арбачяускаса. На месте скульптур были установлены четыре флюгера, символизировавшие храбрость, совесть, справедливость и решительность. По словам авторов проекта, он должен был в ироничной форме напоминать обществу об основных личных и социальных качествах. Как отмечали с сожалением художники, “наблюдая жизнь в Литве последние десятилетия, становится ясно, что эти качества стали очень подвержены изменениям и принимают разное значение с каждой сменой правительства” 7. Проект был встречен неоднозначно. Если художественная и инженерная часть работы были в основном оценены положительно, то смысл инсталляции многими был воспринят как критика и насмешка над политикой правительства, в том числе и политики в отношении “диссонантного наследия”.
Наконец, последним по времени проектом по переосмыслению Зеленого моста стала инсталляция широко известного в Литве архитектора и дизайнера А. Амбраса “Знаки Зеленого моста”. Она состояла из пустых металлических конструкций, ничем не заполненных, – “пустых квадратов”, установленных на месте скульптурных композиций. По словам самого Амбраса, инсталляция возвращает завершенность архитектуре моста и наглядно демонстрирует, что после демонтажа скульптур нет каких-либо новых объектов, которые могли бы заменить их. По его мнению, время для сноса памятников было после получения независимости, оставшиеся же памятники можно было бы рассматривать как “реликты истории, при нейтрализации их идеологического смысла”. Пустые рамки или “клетки”, которые остались после демонтажа скульптур, продолжили дискуссию вокруг советского наследия вопросом о том, что же осталось после его уничтожения кроме пустоты и вакуума.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дискуссия вокруг скульптурных композиций Зеленого моста, возникшая в начале 2010-х годов продемонстрировала, как нейтральное или “молчаливое” советское наследие в условиях повышенного общественного внимания подвергается политизации, превращаясь в диссонантное. Оно начинает активно использоваться для акцентирования травматического опыта некоторых социальных групп, а затем в процессе секьюритизации проблема сохранения наследия напрямую увязывается с вопросами внешней политики и национальной безопасности. Власти из нескольких возможных стратегий обращения с советским мемориальным наследием чаще всего выбирают стратегию его уничтожения или демонтажа.
Вместе с тем дискуссия вокруг скульптур Зеленого моста наглядно показала, что как общество, так и многие представители гуманитарной и творческой элиты страны выступали за художественное переосмысление наследия, которое иногда было оскорбительным для сторонников сохранения наследия, но иногда и довольно удачным. Тем не менее все предпринимавшиеся попытки деконтекстуализации памятника оказались недостаточными для снятия его “диссонанса”. Одновременно этот процесс показал, что и уничтожение или демонтаж советского наследия не обязательно приводит к уничтожению транслировавшегося им нарратива или его “коммеморативного потенциала” 3. Более того, оказывается, что предложенные властями новые идеологические или художественные объекты, возникающие на месте снесенных памятников, не обладают сравнимым по силе воздействия на общество нарративным потенциалом. Подобный насильственный формат реализации политики памяти как ключевого направления политики идентичности, направленной на создание ее общих оснований, ведет не только к появлению новых разделительных линий в обществе, но и к социальной аномии 8.
Список литературы / References
- Серикова А.Ю. Трудное наследие в работах зарубежных исследователей: сущность и трактовки. Вестник СПбГИК, 2002, № 3(52), cc. 108-114. [Serikova A.Yu. Difficult Heritage in the Papers of Foreign Researchers: Essence and Interpretations. Vestnik of Saint Petersburg State University of Culture, 2002, no. 3(52), pp. 108-114. (In Russ.)] DOI: 10.30725/2619-0303-2022-3-108-114
- Tunbridge J.E., Ashworth G.J. Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 1996. 305 p.
- Мегем М.Е., Филев М.В., Давиденко А.А. Снести, перекодировать, интегрировать и маргинализировать: ключевые стратегии стран Балтии по отношению к советским памятникам. Наука. Общество. Оборона, 2022, т. 10, № 4(33), сс. 26-26. [Megem M.E., Filev M.V., Davidenko A.A. Demolish, Recode, Integrate and Marginalise: Key Strategies for the Baltic States in Relation to Soviet Monuments. Science. Society. Defense, 2022, vol. 10, no. 4 (33), pp. 26-26. (In Russ.)] https://doi.org/10.24412/2311-1763-2022-4-26-26
- Verdery K. The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. New York, Columbia University Press, 1999. 185 p.
- Baločkaitė R. Sovietinis paveldas vidurio rytų Europoje – antroji revizionizmo banga. Kultūros barai, 2016, no. 2, pp. 18-22. [Baločkaitė R. Soviet Heritage in Central Eastern Europe – the Second Wave of Revisionism. Kultūros barai, 2016, no. 2, pp. 18-22. (In Lit.)]
- Миллер А.И. Рост значимости институционального фактора в политике памяти – причины и последствия. Полития, 2019, № 3, сc. 87-102. [Miller A.I. Growth of the Significance of Institutional Factor in Politics of Memory – Causes and Implications. Politeia, 2019, no. 3, pp. 87-102. (In Russ.)] DOI: 10.30570/2078-5089-2019-94-3-87-102
- Čepaitienė R. ‘Leninopad’s’ Echoes: Changing Approaches to the Soviet Monuments in Lithuania (2014–2022). Lastouski A., Ramanava A., eds. Communist Heritage in Belarus and EU Countries: the Problem of Interpretation and the Relevance of Conservation. Vilnius, Konrad-Adenauer-Stiftung (деятельность организации “Фонд имени Конрада Аденауэра” признана Минюстом РФ нежелательной на территории Российской Федерации), 2021, pp. 96-101. Available at: https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:146874035/datastreams/MAIN/content (accessed 10.02.2025).
- Семененко И.С., oтв. ред. Идентичность: Личность, общество, политика. Москва, Весь мир, 2017. 992 с. [Semenenko I.S., ed. Identity: The Individual, Society and Politics. An Encycpopedia. Moscow, Ves mir, 2017. 992 p. (In Russ.)]
- Бордюгов Г.А. “Войны памяти” на постсоветском пространстве. Москва, АИРО-XXI, 2011. 256 с. [Bordyugov G.A. ‘Wars of Memory’ in the Post-Soviet Space. Moscow, AIRO-XXI, 2011. 256 p. (In Russ.)]
- Baločkaitė R. The New Culture Wars in Lithuania: Trouble with Soviet Heritage. Cultures of History Forum. 12.04.2015. DOI: 10.25626/0034
- Штомпка П. Социальное изменение как травма. Социологические исследования, 2001, № 1, cc. 6-16. [Sztompka P. Social Change as Trauma. Sotsiologicheskie issledovaniya, 2001, № 1, pp. 6-16. (In Russ.)]
- Звягельская И.Д., ред. Ближний Восток: Политика и идентичность. Москва, Аспект Пресс, 2020. 389 с. [Zvyagelskaya I.D., ed. The Middle East. Politics and Identity. Moscow, Aspekt Press, 2022. 389 p. (In Russ.)]
- Прохоренко И.Л. “Войны памяти” в разделенных обществах: испанский случай. Ибероамериканские тетради, 2021, № 9 (3), сс. 67-78. [Prokhorenko I.L. The ‘Memory Wars’ in Divided Societies: The Case of Spain. Cuadernos Iberoamericanos, 2021, № 9(3), pp. 67-78. (In Russ.)] https://doi.org/10.46272/2409-3416-2021-9-3-67-78
- Малинова О.Ю., ред. Символическая политика. Москва, ИНИОН РАН, 2014. 382 с. [Malinova O.Yu., ed. The Symbolic Politics. Moscow, INION RAN, 2014. 382 p. (In Russ)].
- Trilupaitytė S. ‘Nepatogūs’ totalitarizmo ženklai XXI a. Vilniuje. Patogus ir nepatogus paveldas. Vilnius, 2016, pp. 62-72. [Trilupaitytė S. ‘Uncomfortable’ Signs of Totalitarianism in 21st Century Vilnius. Convenient and Inconvenient Heritage. Vilnius, 2016, pp. 62-72 (In Lit.)]. Available at: https://www.lituanistika.lt/content/108464 (accessed 10.02.2025).
- Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В. Секьюритизация памяти и дилемма мнемонической безопасности. Политическая наука, 2020, № 2, сс. 66-86. [Sevastyanova Ya.V., Efremenko D.V. Securitization of Memory and Dilemma of Mnemonic Security. Political Science, 2020, № 2, pp. 66-86. (In Russ.)] http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.03
- Махотина Е.И. Преломления памяти. Вторая мировая война в мемориальной культуре советской и постсоветской Литвы. Санкт-Петербург, Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. 256 с. [Makhotina E.I. The Refraction of Memory. World War II in Memorial Culture of Soviet and Post-Soviet Lithuania. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg European University Press, 2020. 256 p. (In Russ.)]
Правильная ссылка на статью:
Павлова М. С. Проблемы сохранения и интерпретации советского мемориального наследия в Литве . Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2025, № 1, сс. 27-36. https://doi.org/10.20542/afij-2025-1-27-36